| |
|
|
Долгие летние дни Кронштадтские казались мне часами, и неделя проведенная мною на очаровательном для меня острове, исчезла, подобно легким утренним туманам, окружающим его до первых лучей солнечных, и исчезающим в одну минуту при торжественном явлении царя вселенной. Удовольствие дружбы и приятность любопытства занимали сердце и мысли мои беспрестанно, и угрюмое время не смело прикоснуться ко мне свинцовым своим скипетром, или я не чувствовал его прикосновения.
Но рано ли или поздно, все надобно оставить, всему должно сказать прости — и в один прекрасный вечер на шумной пристани, обнял я милого Б*, прижал сильно к груди моей, которая движением своим давала знать, что в ней происходит. Окинул глазами весь Кронштадт, сказал другу и месту жилища его: «Оставляю вас! простите!» — и сел на катер, долженствовавший перевести меня в Ораниенбаум. Но мой любезной Б* не хотел еще расставаться со мною; хотел разделить еще несколько приятных часов с другом, впрыгнул в катер мой, к живейшему удовольствию души моей, и мы приплыли в несколько минут 1 к твердой земле, с твердым взаимным уверением, что всегда и везде будем — истинными друзьями.
Прямо из пристани пошли мы во дворец Ораниенбаумской и в прелестные сады, окружающие дворец. Переходя медленно из комнаты в комнату, я думал непрестанно о любезнейшей Царице, о нежной, доброй Матери отечества, о кроткой, незабвенной Елисавете, которая построила здешний дворец, насадила сады, и приезжала сюда наслаждаться тишиною и прохладою в прекрасные дни севера. Мне казалось, что я вижу какие-то остатки, следы чувствительной женщины-Монархини; дышу воздухом, в котором еще хранится ее дыхание; прикасаюсь к предметам, которых она касалась; угадывал, или хотел угадать, что делалось в каждой комнате; вспоминал особ, которые занимали их вместе с Державною Хозяйкою; думал, мечтал и не говорил ни слова.
Осмотрев все комнаты, между которыми Китайская достойна особливого примечания множеством фарфоровых Китайских вещей, мы вышли на балкон — и глаза мои были поражены приятнейшим видом на свете: Кронштадт со своими бесчисленными кораблями, с высокими шпицами и длинный канал пристани Ораниенбаумской — все против самого балкона — представляют, с открытым морем и плавающими там и здесь судами, одно из таких зрелищей, которых ни вообразить, ни описать невозможно, или очень трудно. Я смотрел долго и чувствовал, что не могу насмотреться. Заходящее солнце довершило прелесть картины; последние лучи его пылали на металле куполов, крестов и шпицев Кронштадтских. Наконец мы сошли в сад: новое наслаждение! Прекраснейший летний вечер, ароматы бальзамических цветов и дерев, свежий воздух, густые аллеи, таинственные куртины, излучистые дорожки, шум морских волн, уединение места, романтические убежища.... Каждая аллея, каждая куртина, каждая дорожка возбуждала какую-нибудь мысль в голове моей, или какое-нибудь чувство в моем сердце. Я останавливался почти на всяком шагу; спрашивал безмолвно у немых предметов: «Где первые Владычицы ваши и — миллиона сердец, пылавших к ним любовью? Где милые богини, украшавшие вас и — вселенную, благоговевшую пред Ними? ... где?»
И глубокой вздох служил мне полным ответом.
Меланхолическое расположение души моей переменилось на чувство приятнейшего удивления, когда мы пришли к деревянным высоким горам, которые составляли одно из удовольствий великой Женщины, сильнейшей в мире Государыни, ЕКАТЕРИНЫ Второй. Богоподобная Фелица, в минуты отдыха, свободы от бессмертных дел своих, любила кататься с дружеским своим обществом на сих необыкновенных горах, сделанных таким образом, что колясочка, в которой можно сидеть двум и третьему стоять на зади, поднималась с горы на гору до последней сама собою. Они уже ветхи; скоро развалятся — и Ораниенбаум лишится одного из драгоценных памятников! ... Ах! есть ли в мире памятники нетленные, несокрушимы, вечные!... Все, все исчезает — рано или поздно!... Горестная истина!
Вечер уступил владычество ночи, и мы при лунном свете, разлившем какое-то истинное очарование на сцену берега и моря, пошли в гостиницу.
Скоро эфемерная летняя ночь севера уступила в свою очередь господство лучезарному жениху природы, нетерпеливо мною ожидаемому — и с первым взглядом его на Ораниенбаум мы снова пошли к предметам моего любопытства. Маленькая башня перед домиком, в котором некогда Петр Третий занимался одними своими удовольствиями, привлекла тотчас взоры мои. Мы вошли в башенку, готовую повалиться; из нее — в домик, украшенный — птичьими гнездами. Воспоминая о таланте мирного Хозяина, мне чудилось, что я слышу приятные звуки, вылетавшие из-под смычка его 2, и единственно для этого пробыл более одной минуты в стенах заплесневевших, унылых. Оттуда пошли опять в сад — смотреть славные его оранжереи. Архитектура некоторых и богатство каждой достойны примечания. Нигде, думаю, не увидите столько и таких ананасов в одном месте; о других фруктах нечего и говорить: их бесчисленное множество и всякого рода. Из оранжерей возвратились мы на вчерашние следы свои — и то же вдохновение, те же чувства пролив в душу мою; утро и воздух были наилучшие, зелень и цветы прелестнейшие, тени куртин и лабиринт аллей привлекательнейшие.... Что шаг, то удовольствие; что взгляд, то восхищение....
Мы ходили, смотрели везде, все, и около знойного полудня пришли на роковое место разлуки моей — как знать, может быть вечной — с любезным человеком, и с приятным краем, то есть пришли на квартиру, где первым делом моим было писать к одной знакомой мне даме, которая недавно жила в Кронштадте, и которая теперь живет в Москве — писать следующие стихи:
| |
П о с л а н и е
К А*** С*** Т–й. |
| |
Я видел те места, которые тобою
Когда-то красились; в которых ты жила
С любовью, с дружбою и с мирною душою;
Где всеми чтима ты была;
Где с чувством о тебе всегда воспоминают,
И где следы твои цветами усыпают...
Ах! как приятно, сладко жить
В сердцах у добрых и заочно!
Как щастие любви небесной, чистой прочно!
Его не может — нет! и время истребить!...
С обыкновенными души моей мечтами
Ходил я по твоим следам;
Без всякого труда отыскивал их сам,
Или передо мной они являлись сами.
И мог ли не узнать я их?
В саду Армидином 3, где дышит все природой,
Надеждой, радостью; где с томною Дрядой
Сильф пламенный любви и щастью гимн поют,
И щастье и любовь друг другу в сердце льют;
Где мысли в области прошедшего летают;
Где тысячи вещей
Воображение чудесно занимают;
Где все души моей
Служило пищею приятною и новой:
Там я угадывал места, в которых ты
Одна, сама с собой и с Юлией Руссовой
Питала сладкие, щастливые мечты;
Всем сердцем верила блаженству нежной страсти,
Которую ни рок, ни все на свете власти
Не могут покорить под грозной скипетр свой....
Ах! только страстию такой
Душа — не хладная, сухая —
Довольна может быть
И щастье вечное в себе лишь находить,
Другому счастье сообщая!
«А здесь», я думал: «стол под тенью вязов сих
С Китайским Нектаром не раз был поставляем,
И чай душистый разливаем
Хозяйкою в кругу семьи, друзей своих....»
Ах! как завидовал я наслажденью их! —
«Здесь ввечеруиона гуляла вместе с ними,
Здесь бегала с детьми, здесь с чувствами живыми
Смотрела на море, на флаги кораблей
И думала с Поэтом:
«Нет невозможного на свете для людей!
И люди сделались владыками над светом».
По каждой Английской дорожке золотой,
Казалось мне, я шел тихонько за тобой;
Под каждым древом кудрявым и тенистым
Я воздухом дышал с тобою свежим, чистым,
И даже вслух тебе забывшись говорил
О том, что для себя прекрасным находил....
Ответа не было!... иль эхо за горою
Перекликалося из жалости со мною. —
«А там....» но можно ли бумаге передать,
В подобных случаях, все наши впечатленья?...
Надеждой веселюсь изустно все сказать,
Все-все, без исключенья.
Уж повестей от нас недалека пора:
Приходят длинные осенни вечера;
Романы, Были нам помогут их убавить,
И время скучное улыбкою приправить.
Пылающий камин и сердца скромный жар
Улиссу твоему в рассказах — но правдивых —
Доставят занимать немного трудный дар....
С какою жадностью жду сих минут счастливых!
|
Между тем почтовая карета ожидала меня; чувство прискорбия также: я не знал, скоро ли опять увижу милого друга; расцеловал его, сел с Лафлером моим в карету и поехал, к счастию, по приятнейшей в свете дороге, имея в глазах с одной стороны море и развевающие на судах флаги, а с другой холмы, покрытые тенистыми рощицами.
Вот место, достойное поэмы какого-нибудь Делилля; но воображение сего самого Поэта не в состоянии представить себе того, что можно видеть в Петергофе! Надобно быть в нем 22 июля — день, в который обыкновенно празднуется Тезоименитство Государыни Императрицы МАРИИ ФЕОДОРОВНЫ. Какое великолепие! сколько искусства! как все очаровательно!
Прекрасный обширный сад, Французский и Английский вместе, и хитрое, волшебное освещение — не чудо; но тысяча фонтанов, бьющих из бронзовых разной величины фигур Мифологических, и сей колоссальный Самсон, раздирающий челюсть льва, которая выбрасывает воду толстым столпом на несколько саженей вверх, составляют такое зрелище, а особливо при игре разноцветных огней, для которого трудно найти слова и краски. Будете смотреть с галереи дворца 4 вдоль широкого проспекта, заключающего в себе сии фонтаны, наполненного светлою водою, пересекаемого красивыми мостами и идущего до самого морского берега, на котором горит огромный щит с вензелем Августейшей Именинницы — и не захотите иметь другого удовольствия; придете боковыми дорожками сего проспекта к берегу, оглянитесь назад — и не захотите сойти с места.
Бесчисленные куртины и аллеи, зеркальные бассейны и каналы, живописные острова и площадки, различные домики, храмы и киоски: все в ярком огне, все в радужных цветах... Прибавьте к этому шуму фонтанов и каскад звук роговой музыки, рассеянные группы гуляющих — и все заставит вас думать, что вы перенесены в жилище богов, угощающих друг друга... Но не все ли равно? здесь МАРИЯ угощает АЛЕКСАНДРА!
С каким удовольствием, с какими мечтами ходил я в этот раз и после из комнаты в комнату сельского дома, стоящего на самом краю морского берега, и названного Петром Великим Mon plaisir (Моя забава)!... В сем домике находится кровать, на которой покоился неусыпный Гений России; картины, которые сохраняют память любопытных случаев из жизни Порфироносного странника. В сем домике забавлялась и Великая ЕКАТЕРИНА! Я воображал как Владычица полвселенной, сняв тяжелую порфиру и диамантовую корону, положив золотой скипетр и блестящую державу, одевалась в легкое платье, брала творческое перо; и в тишине, в уединении, при виде моря и кораблей своих, сочиняла какую-нибудь сказочку, оперу или писала ответ Фернейскому жителю; потом приходила, в соломенной шляпке, к цветнику своему, очищала и поливала любимые цветы, ею самою насаженные; после того сзывала колокольчиком голубей своих, или рыбу, плавающую в ее бассейне, кормила их, утешалась ими и была счастлива — без величия и трона...
ЕКАТЕРИНА в низкой доле,
И не на царском бы престоле
Была великою женой.
Державин.
Без сомнения!... великие везде и во всем велики!
Обежав наконец все тропинки Петергофского сада, я простился с ним до 22 Июля и поехал к цели своей, то есть в Петербург, по гладкой, ровной, вымощенной дороге. Монастырь или пустыня Святого Сергия остановила меня; нетерпеливо вышел я из кареты, встретился, по счастию, с монахом и попросил его привесть меня на гроб любезнейшего человека, незабвенного патриота, милого сердцу каждого гражданина, оплаканного всеми без исключения, на гроб Г* Г* А* З***. Я поклонился ему с чувством живейшей скорби о преждевременной смерти достойного наперстника Славы и Фортуны, и благословил свежий еще прах его из глубины душевной.
Прекрасное местоположение сей Обители, примыкающей зеленым берегом к самому морю, пленило меня, и я сказал в сердце своем: «Гроб прекрасного человека и должен быть на прекрасном месте!» Теперь он в часовне; но будет в церкви, которая построится над прахом, под ним сокрытым, с богадельнею для верных сынов отечества, отслуживших ему и не имеющим состояния. Бесценный памятник!
Проезжая мимо села Стрельни, я любовался прохладным высоким дворцом его, омываемым шумящими морскими волнами. Напоследок непрерывная цепь живописных дач — одна за другой занимали глаза мои до самого Петербургского шлагбаума. Ничего не может быть быть приятнее этой дороги! Едите и не чувствуете ее; увидите конец ее и желаете об ней. Здесь скусство лучше всякой природы, или по крайней мере не уступит изящнейшим ее произведениям. Хвалят окрестности и виды Московские — и справедливо. Там пленяет вас природа без всякого искусства: я люблю ее не менее другого, но хотел бы жить в Петербурге, где сев на шлюпку, приплываю к острову или к даче; где ступив несколько шагов, прихожу в Летний или Таврический сад; где, среди города, гуляю по тенистым бульварам, по берегу величественной реки, по тротуарам чистых каналов или широких проспектов, — тогда как надобно собраться путешествовать для того, чтобы любоваться окрестностями и видами Москвы, устрашающей своим пространством, которое утомит вас прежде, нежели достигнете своей цели.
По возвращении в Петербург, первым чувством моим было желание идти на поклонение Петру Великому, непрестанно занимавшему ум, мысли и душу мою в продолжение целых двух недель. Удовольствие и благодарность требовали сего священного долга, и я прихожу к славному памятнику славнейшего Героя на войне и в мире; и там, у гранитного подножия бронзовой статуи, достойной своего предмета и художника, излились прямо из сердца следующие стихи:
| |
Могу ль не приклонить колена пред тобою?
Тебе одолжено все, зримое здесь мною,
Чудесным бытием и славою своей!
Ты создал города и флоты и — людей
Одним могуществом души Своей великой!
И счастия цветы среди пустыни дикой
Неутомимою рукою насадил;
Дал чувство мне и быть щастливым научил!
|
1 Расстояние между Кронштадтом и Ораниенбаумом составляет не более 7 верст.
2 Известно, что Петр Третий играл превосходно на скрипке.
3 В Ораниенбауме.
4 Старинного, как и Ораниенбаумской и построенного также ЕЛИСАВЕТОЮ ПЕТРОВНОЮ.
Печатать дозволяется с представлением 5 экземпляров в Цензурный Комитет для казенных мест. Февраля 9 дня, 1817 года. — Сию рукопись читал Ординарный Профессор
Михаил Снегирев.
|
|
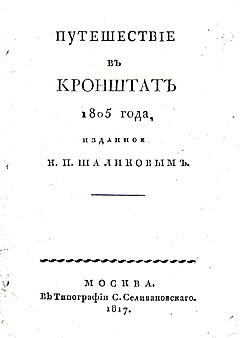 |
|
